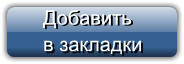Обозреватель «РП» Владимир Липилин приводит читателя туда, где время как будто бы остановилось — но, осмотревшись, понимаешь, что просто оно течет по-другому, не так, как в «суете городов и в потоке машин».
Доктор биологических наук Дима обмывал свою ученую степень. В подарок разное принесли: ненужные спиннинги, ненужные подробные карты совсем не той местности, фонари типа «Экспедиция». И только мастодонт визуального искусства Юрий Николаевич Кемаев подарил собственноручно изготовленный лук. Все как полагается: из белой акации, тетива из бычьего сухожилия, оцентрованные стрелы с тупыми наконечниками от веретена. К стреле прикреплена записка с волнующим вопросом: «Дашь?»
Просто Дима — болотник. Он изучает эти болота уже много лет. И вот защитился. Оказывается, до сих пор они кому-то нужны. А Юрий Николаевич — охальный шутник-кинодокументалист.
Или вот.
Поехал один человек в райцентр на своей «ниве», Юрий Николаевич ему звонит:
— Это, от тебя там щас винный магазин далеко?
— А чего? — слышит в ответ.
— Подъедешь — зайди за него, в полыни там стопарики пособирай. Рассаду некуда сажать.
В трубке, естественно, брань.
Такая это деревня. Несерьезная вся. Но нас к ней бешено тянет. Мы выцарапываем право поехать туда обещаниями, что вот вернемся и обязательно все доделаем. А казалось бы, чего уж там такого? Вразумительного ответа нет. Можно было бы, наверное, понять, если б мы сошлись на фоне алкоголя. Банально, конечно, но уж как-то понять наверняка можно. Но и это не совсем правда.
Я давно заметил: все, что ты придумал, сочинил о местности, оказывается потом чем-то приблизительным. И родина вообще такова, что тут нельзя обобщать ничего даже в пределах одной маленькой географической точки. Что в каждой «дыре» обязательно случатся люди, которые думают, любят и что-то делают по-настоящему.
Деревню Шенино, что в Краснослободском районе Мордовии, лет десять назад открыл для всех наш же товарищ Леша — историк и антиквар. Одно время повадился Леша ездить на внушительный (с девятиэтажку) курган, поросший сосной.
Ему нравилось проживать выходные медленно, несуетно, в палатке, с котелком, походной печкой и прочими атрибутами созерцательного человека. Иногда земля выталкивала артефакты в виде каких-то женских украшений, наконечников стрел, и тогда его, бывалого и жженого, оторопь брала, он, говорит, так явственно представлял тот век двенадцатый.
Во времена приснопамятные древняя лесная мордва тут билась с татарами. И, кажется, не победила. Но и не проиграла. Монголам в лесах было неуютно, а мордва скакала по деревьям, что росомаха.
Как-то в ноябре перестала согревать даже водка. Ночью Леша свернул палатку и поехал в автомобиле по одной из песчаных дорог, проселок привел в деревню. С одной стороны — лес, в балке незамерзающий ручей, с другого края — каналы, оставшиеся после торфоразработок, луга. Из постоянных жителей — Витя, цапли, совы, бобры. Леша постучал к Вите и спросил, можно ли в каком доме переночевать. Тот предложил печку и сказал: а так — в любом доме. Хоть живи. Позже, конечно, он отыскал владельца, обитающего километрах в пятнадцати у детей с газом, телефоном. Стал торговать жилище.
Старик помялся, почесал затылок и с апломбом, будто толкает нефтяную вышку, выдал:
— Пять тыщ, и он твой. Ну, как твой? Документов-то у меня самого нет. Бумагу напишу.
Потом понаехали другие — шатоломные фотографы, режиссеры, журналисты. И скупили оставшееся, как и положено самым удивительным вещам в жизни, задарма, за бесценок. Мы когда-то работали с ними вместе в различных изданиях. Потом не виделись лет пятнадцать. И вот случайно я попал туда. И увяз.
Юрий Николаевич теперь всем рассказывает про их превращение в деревенщиков:
— Первое время в деревне любой городской житель — ну, такой Манилов. Сидят все, как куркули, планы чертят. Пруд с форелями, гостевые избы для иностранцев, тропы для экологического туризма. Но это ж не компьютерная игрушка, надо телодвижения какие-то совершать. Но все напиваются и благополучно сваливают в город, гундосят чего-то про следующий раз. Я в один приезд говорю: а давайте хоть в лесу вон на поляне волейбольную площадку сделаем. «Прекрасно! — прослезившись после выпитой первой, восклицают домовладельцы. — Только сначала скамейки и стол. Ну, для судей». Стол и скамейки действительно вкопали. И обратно же напились. Уезжали — оправдывались, списывая все на дикую инерцию русской земли. Мол, все, что необходимо человеку для жизни, земля обязательно даст, а то, что сверх прибыли, — баловство и понты. Ничего не меняется в людях.
Впрочем, кое-что все-таки делали. Починили баню по-черному, запрудили плотину, фруктовый сад очистили. Только убрали — буря все яблони поломала. А пруд так и не наполнился. Мы помогаем деревне доживать весело.
После нескольких приездов я понял, что надо как-то все это записывать, по-другому просто нельзя. И стал вести нечто вроде дневника. Потом с одним из приятелей решили издавать газету. О прошлом, о людях живших (по воспоминаниям бабушек и редких дедов, которых уже именовали дачницами), об озерах, болотах, торфяных каналах, покинутых поселках, загадочных каменных сооружениях в лесу и о нас — отчаянно неприкаянных. Тираж смешной — 23 экземпляра. Название простенькое: «Ассоциация содействия вращению Земли».

Все лето Кемаев снимал фильм о древней мордве. Колесил на своей колымаге по окрестным населенным пунктам. Авто было забито копьями, луками, стрелами, мешковиной, какими-то дурно пахнущими шкурами, деревянной и глиняной утварью, была там даже пушка, которая стреляла мукой, делая понарошенский «дым». Юрий Николаевич реконструировал события сильно далеких лет. Подряжал крестьян на съемки и их скотину. Его кино без слов. На профессиональных актеров денег не было. Да и не нужны они там. Зато в деревню часто приезжали наши колоритные знакомые, некоторые с бородами. Юра ходил вокруг такого вечер, оглядывал с разных сторон, будто проводил молчаливый кастинг, подливал мордовского напитка под названием «поза». А потом брал обещание, что тот обязательно и даже непременно снимется в его фильме, изображая мордвина. Человек в таком состоянии обещал все. Но наступало утро. И это было уже другое кино.
Свою избу Юрий Николаевич устроил в духе музея современного искусства. Часы без стрелок с высунувшейся кукушкой, сопроводительные надписи, шарманка на русской печи, контакты замкнуты на косяке двери: открываешь — «Лунная соната», закрываешь — молчит.
— Это чтоб зимой не выстужали, — бубнит он.
Какие-то кувшины, барабан с деревянными ложками вместо палочек. По коньку крыши идет вырезанная из куска железа крадущаяся лиса (герб города Саранска). Когда-то она украшала стену одной из редакций. Юрий Николаевич служил там фотографом.
Его не очень добрые розыгрыши коллег стали легендарными.
Стены дома снаружи украшены коровьими черепами. Перекрещенными копьями, шикарными рогатками. Всю свою старую технику — два ящика химикатов, бумагу — легенда мордовского визуального искусства свез в амбар и устроил там лабораторию. Теперь любой приехавший может зарядить пленку, полазить по лугам, торфяным каналам, лесу с какой-нибудь «Практикой» или « Пентаксом». Проявить в темени глиняной мазанки и ночью под голоса соек и кукушек печатать в красном свете фонаря. А утром развесить на разноцветных прищепках уже готовое. Голова чумная от химикатов и отсутствия сна, солнце преломляется в росах, пьяно пахнет сосной. И как будто нет на планете никого больше. Никто не переубедит, что все зыбко, невнятно и, может быть, даже вот-вот кончится.
С единственным местным жителем Витей мы единственные тут увлекающиеся астрономией люди в деревне. У Вити папа преподавал ее в школе, у него рефракторный телескоп «Алькор». На крыше сарая, что засыпан землей и порос полынью, мы наблюдаем за Гончим Псом и Волосом Вероники. Юрий Николаевич обещает сделать нам табличку с обозначением помещения. Два года обещает. Наконец привозит. В тряпочке. Чеканка. Первая буква почему-то «а». Так и написано: «обсерватория».
— Да козлы безграмотные, — негодует он. — Я нашел, где подешевле. Даже не посмотрел. И ведь всего-то 12 букв.
Через неделю Витя затаскивает на крышу кровать с панцирной сеткой, будильник, делает полог и вместе с табуретом, телескопом, картой звездного неба и земляной крышей обрушивается внутрь, в погреб. Но вывеску решает оставить, сарай становится туалетом. Витя долго рассуждает о силе печатного слова и провидении.
У Вити золотые руки, бурное прошлое и харизма. Согласно такому набору качеств, человек он противоречивый. Даже для самого себя. У Вити наблюдаются потуги к изящному. В дому он держит много книг по искусству, есть даже на английском языке. В загоне, куда попадает и речка, — настоящих диких кабанов.
Витя пышно любит пышных женщин. Особенно весной. Он называет это астрономически — спектральным всплеском. Привозит такую даму из райцентра, катает на льдинах по озеру Танака, на сооруженных им же самим высоченных качелях, которые он, как бывший боцман, именует реями. С такой женщиной он мечтает выращивать диких вепрей, ходить за грибами, разговаривать о произведениях Пелевина и картинах Ге. Но дама уже к началу июня дуреет от запаха сосен и внимания, не выдерживает накала. На прощанье Витя дарит ей маленькую полосатую свинью. Просто он готов к обрушению любых иллюзий.
Вите не чужды пассажи под просторечным названием «запой». Он уходит в них торжественно, как ледокол в ледовитое плаванье. Красиво, как писатель Хемингуэй. Ибо начинает с бог весть откуда взявшихся трех бутылок рома.
А потом становится невыносим.
Ходит по деревне с косой-литовкой на плече, утверждая, что видел у леса на снегу следы матерого волка. Но ружье у него, сволочи, спрятали. Захаживает в дома к дачникам, приехавшим проведать бабушек или тещ, которые сбегают сюда из города на лето, и раскуривающим, допустим, кальян. Подходит к столу:
— О, таблеточка! Как раз для моей поганой души.
Берет шайбочку угля и жует. Черное течет по незрелости.
Но два года назад он свои экзерсисы прекратил. Витя увидел, как по воздуху над соснами летел вертолет. В открытой двери, свесив ноги наружу, сидел мужик и шпарил на баяне что-то «невыразимо прекрасное, никогда не слышанное».
— Тогда я решил: баста, карапузики. И стал искать в интернете эту мелодию. До сих пор не нашел. Вот слушай, не знаешь такую? — И он губами начинает выдувать. Потом идет кормить наплодившихся маленьких вепрей.
Минус 33 на дворе. Мы катаемся с крыши на охотничьих лыжах. К январю с той стороны, где болотистые каналы, снега наметают как раз под скатную жесть. Проделав лыжню прямо в лощину, мы довершаем ее трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Это угарно и весело. На фронтоне многих изб, в том числе и этой, резные наличники: навстречу друг другу летят два самолета, туда, к тому месту, где скаты на верхушке встречаются. Давно так летят. Лет пятьдесят уже. Я пытался выяснить у местных метафору, кто вообще и зачем это делал. Не помнят.
Часа два мы так скатываемся, подходит Дима в ушанке из искусственного меха, но с кокардой. В доме у Вити еще откуда-то три полковничьих шинели. В них хорошо за снежным столом чай пить. Дима говорит, что сделал два перевода Summertime Sadness. Один со штрихами Фудзиямы, второй дословный. Но русский весьма тяжел для этой песни. Точнее — пока что не справился.
Перестаем кататься на лыжах.
На краю деревни, откуда видно, как эти заросшие каналы блестят ввечеру летом и спят под снегом зимой, дом Евгения Борисыча. Лет пятнадцать он работал главным охотоведом в здешних угодьях. До этого 18 лет на «скорой» в райцентре. Каждую тутошнюю кочку не просто знает — чувствует. Езда на его «ниве» по просторам, что называется, очаровывает. Там, где внушительная яма, Борисыч давит на газ, и машина становится как корабль, преодолевающий волну. Плюгавенькая кочка — он тормозит. «Чего это?» — думаешь. А тряханет так, что макушкой в потолок.
Борисыч — тип балагурный, любит крепкую шутку. Но никто не станет стрелять тетерева, если не будет полной уверенности, что не случится подранок. Борисыч все видит.
Он так зыркнет и так пришлепнет словом, что краснота пойдет по всей роже. И это, слава богу, не пятерней, где трехлитровая банка выглядит кофейной чашкой. Борисычу 60. А положить его кулачище на стол в пацанской забаве армрестлинг до сих пор никто не сумел.
— Просто там у тебя сварной уголок, — говорят очередные проигравшие.
Он широко известен в стане профессиональных охотников, умеющих добыть лося или медведя. Чиновники с разных концов родины, любящие поиграться с ружьишком, звонят ему. Но он не едет.
Иногда издевается только:
— А хочешь, я на тебя зайца выведу? Ты вот там, за околицей, у березы встань за сугроб.
— Зачем? У меня и ружья-то нет, — недоумеваю.
— Ну, чтоб сфотографировать.
Каждый раз, как мы порвем трос в трясине, увязнем или утопим «газик» в полынье, а потом звоним Борисычу, он изящно матерится и говорит, что жаль, что и мы не утонули вместе с авто, что, в общем-то, он не намерен вызволять в день по три раза разных гондонов. Но в следующий раз все повторяется. Пыхтит, но едет.
Однажды целый караван застрял в пурге. Борисыч шел в голове, торил путь. Стал разворачиваться и бешено, то в одну, то в другую сторону, крутил баранку, газ в пол.
— Женя! — кричал Юрий Николаевич, вцепившись в сиденье. — Это же невозможно, я тебе как физик говорю.
Борисыч обогнул караван, всех вытащил.
— Физик, говоришь?
— Ядерщик, — поправился Кемаев.
Под вечер пошли с Димой проверять капканы. О тамошних лесах местные (из соседних деревень) люди рассказывают как о живых. И прибавляют глагол «водят». Нас до поры это всего лишь забавляло. Стало темнеть, и поднялся ветер. Запуржило. У нас фонарики, и Дима биолог. Сначала все было смешно и даже весело, потом часы стали показывать полночь. Я вспомнил, как в прошлом году приезжали чьи-то знакомые — парни из конторы, козырно экипированные. Ушли в ночь на гуся. И лесочек-то смех один — в рост человека, зато тянется чуть ли не до Рязани. Они пропали. Пытались звонить им, но без толку: вышки далеко. Мы искали их на японском большом автомобиле, все напрасно. Утром грязные, усталые они вышли в 40 километрах от того места, где мы их ждали. Спрашивал их потом: — Вы как же шли?
— По звездам, — сказал один. — Ну, по Ковшу, который Большая Медведица.
— Дураки, он же крутится.
— Серьезно?
К четырем утра метель только усилилась, лес гудел, как океан. Хотелось залезть в какое-нибудь дупло и там переждать. Но дупла не было. И вскоре хотелось прислониться просто к сосне, немного поспать, потом начался бред. В прорехе между деревьями маячило море и пальмы, затем умученное сознание стало подсовывать картины одна нелепей другой.
— Ты тоже это видишь? — орал я Диме.
— Что?
Я стал читать молитву Николаю Угоднику и на всякий случай переодел куртку молнией назад. Не помогало. Мы куда-то шли и шли, согнувшись. Губы немели, и болели от стыни глаза. И совсем не верилось в существование где-то тепла, ночных клубов и социальных сетей.
На трассу выбрели только в восемь утра. И упали. В тот момент осознание того, что мы остались живы, казалось случайностью, чудом.
Какой-то парень подвез нас до поворота. Затем выяснилось: ночью нас искала вся мордовская деревня. Мужики, как полярники, с красными рожами вышли навстречу.
Потом сидели в избе, топилась печка, всполохи пламени в запотевшем стекле. Я думал о том, как все просто происходит — ну смерть, например. И о том, что вот кроме этой маленькой жизни, друзей, любимых людей у тебя, в сущности, ничего-то и нет. Но это такое бешеное богатство. И любил всех.
А Дима сидел на печке и что-то писал в тетрадь.
— Ты тоже это видел? — вспомнил я про миражи.
— А? — вздрогнул он. — Не. Я просто вот тут подумал: как интересно. Скорость света (электромагнитной волны) в вакууме не является константой от времени. Понятно, что время неразрывно с пространством, но тут имеется в виду направленный вектор развития галактики. Только этим можно объяснить ненужность Большого взрыва. И большое количество явлений, начиная от реликтового излучения до распада нестабильных ядер.
 Весна. Три утра. Оделись, поехали на охоту. На песчаной развилке разошлись в разные стороны. Товарищи по загодя сооруженным шалашам на тетерева. Я — к деревне — снимать пастораль. Прошел километра три. За скотным чьим-то двором у крайней избы порядочно выщипанный стог сена; залез в эту нишу, как в нору, прислонился спиной к прошлогодним травам, уснул. Как будто кто-то шепнул в ухо. По задам огородов дядька вел под уздцы коня. Солнце снизу подсвечивало остатки снега и талые воды, зеркало будто. И казалось, что дядька с конем не идут — парят. Ну, чуть-чуть. Над одуряюще пахнущей землей. И невидимые жаворонки. Как будто далеко по возвышению или холму идет где-то поезд, а в небе, как на полках старинного комода, дрожат, позвякивают хрустальные рюмочки, из которых давно некому пить. Камеру сунул в рюкзак. Такая красота, что как-то грех нажимать. Да и все равно, как видишь и чувствуешь — не получится. В деревню возвращался пешком. Счастливый как дурак.
Юра сделал виселицу. Написал на ней: «Типовая. Вес до 120 кг». Принес чайник за утренний стол, чашки, сахар, в сковородке — яичницу. Все сидели, вилками тыкали. Примчался Борисыч, сел, взял со стола чей-то карабин, повертел в ручищах: — Че за дробь?
— Два нуля, — ответили ему.
Не целясь, как жахнет — петля закачалась.
— Ты че делаешь-то? — всполошился Юрий Николаевич.
— Я думал, упадет, — простодушно и даже как-то смущаясь сказал тот.
Теперь всем, кто приезжает в деревню и начинает иногда кобениться, жаловаться на жизнь, Юрий Николаевич уютно и доброжелательно предлагает:
— А ты иди. Повесься.
Продолжение http://kc13.ru/news/derevenshhina_2/2015-10-09-6096
|