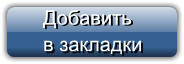Начало http://kc13.ru/news/derevenshhina/2015-10-09-6095
Вечером, когда все уезжают на вальдшнепа, Борисыч выносит на воздух самодельный мольберт на трех ногах, сработанный из местного клена. Ящик с красками, кисти. И пишет закат. Весь этот свет, деревья, ландшафт он всегда пишет только с натуры. А сцены из охоты потом наносит по памяти. Он их столько за свою жизнь переведи.
— А ты чего ж, совсем, что ли, не охотишься?
— Неа. Года три уж. Че-то такое случилось: вскидываю карабин, веду, а стрелять не хочу.
— Сентиментальность к старости приходит, — смотрю на него я. Не покоробило ли. Нет. Не покоробило. Даже ус не дернулся.
— А Бог ее знает. Может, и так. Я вот иной раз в шалаш залягу, шесть часов там кукую, жду, когда прилетят глухари. И вот прилетели, начали токовать. Прям над башкой, на ветках. Сердце колотится, мое и их, как хвост заячий. Перестали. Ты вылезаешь, чешешь домой, и ты другой человек. Маненько, но другой. Ясно дело, что все внутри там, внутри тебя и гадость, и черт, и Боженька, но такая радость, что ты еще можешь быть хорошим, что еще не совсем опаскудился. Как рассказать.
В старой черемухе щелкнул соловей и замолк — не время еще.
— Вот, видал, сын тут у меня постоянно торчит, внук Женька. Я ведь их гоняю, йо, вкалывать тут заставляю: дел в деревне всегда по уши. А все равно едут. И так с детства. Мне кажется, преодоление себя, все вот эти шатания по лесам, увязания в болотах нынче один из немногих способов остаться человеком. И получить удовольствие от этого. Вроде вот думаешь: зачем поеду, зима. Есть дорога, нет, откапывать крыльцо, наносить воды, печку топить. А приехал, себя преодолел и уже как бы совесть очистил.
Борисыч, сам того не зная, многому научил нас в лесных делах. И не уметь сделать, допустим, нодью из бревен в зимнюю ночь, чтобы было тепло и светло, вроде как и стыдно. Это ж простейшее. Или кладку кирпичную. А до этого никто не умел.
— А чего ты вдруг рисовать-то начал?
— Да не вдруг. — Плечом ведет, усом шевелит. — Мы в студенческие времена с другом столько клубов, ленинских комнат оформили. Я ж художественное училище окончил. Потом бросил все это. Женился. А друг не перестал. Всю жизнь пейзажи ваял. А недавно вот умер. Я приехал, краски, холсты, все забрал. Теперь вот за него дописываю.
Очень редкий день, штучный.
С утра клали печку в бане. Уничтожили почти всю крапиву у ручья. Поехали в лесную одну деревню за котлом. Встретили двух мужиков на велосипедах в лесу близ каналов, на рамах их сохли пустые сети, пахло тиной. Мужики угостили нас потрясающей махоркой, мы разлили им в пивные стаканы бутылку водки.
— Щас, щас, консервы, — колготился Дима. Но они уже опрокинули. Рукой показал один: не, не надо.
— Да как же, — сказал Дима. — Закусить-то?
— Губищами, губищами, — молвил дядька.
А другой сказал:
— Я знаю, че такое Бог.
Мы выждали паузу.
— Бог — это информация.
В деревне лесной, где пять человек живут, выбежала под колеса бабка. Мы уж хотели заругаться на нее. А у бабки слова из груди не идут — мешает кто-то, задыхается. Все машет руками на дощатый погреб. Мы заглянули туда. От стрехи в творило темени уходила ужом веревка, покачивалась. Когда глаза привыкли, мы узрели старуху.
Она повесилась.
Наш Витя достал нож, которым он так и не открыл консервы, рубанул по витому. Бабка свалилась.
Прибежали еще старухи, вынули ее, и, как это ни странно, она выжила. Сидела потом на траве возле дома в одной галоше, совершенно чумная, раскачивающаяся еще в ритм веревке.
«Скорую» вызывать не стали — все равно не проедет, звякнули только медичке, которая на пять деревень там.
— На губах прям горечь, как угля наелась, — сипло, почти шепотом говорила бабка по имени Поля.
Позже она поведает, как летела уже куда-то, так скорость была такая, что она от ужаса прикусила язык.
— Эхе-хе, царица небесная, — выдохнула та, которая нас звала. И в этих «эхе-хе» умещалась целая книга под названием «Исход». И весь человек — земной и небесный.
Потом мы привезли и поставили котел. Поехали с Димой, тоже на великах, на болота. И он мне все рассказывал, как Ивана Грозного стращали этими болотами, когда он собирался идти на Казань. Мол, увязнешь, и капут.
А над головами не умолкали чибисы. Бестолковые хохлатые птицы, родившиеся, кажется, с единственным вопросом к существу человеческому.
— Чьи вы? Чьи вы? — пищали они с таким императивом, надсадой и ноткой тоски, будто и правда знать это им было позарез необходимо и интересно. Любой ответ — шуточный или серьезный — был, конечно, неправильный. И они продолжали, не сбавляя.
Дима потом лазил с шестом и в ОЗК, собирал какие-то травки в пластмассовые баночки, грунт. Болота пузырились, булькали. Квакал одиноко жабий самец.
А я сидел на берегу и думал, зачем вдруг и как вообще поэт Блок вдруг написал цикл стихов, где ни единого нет человека. Про болота. «Пузыри земли».
Я прогнал тебя кнутом
В полдень сквозь кусты,
Чтоб дождаться здесь вдвоем
Тихой пустоты.
Вот — сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий — месяц наверху —
Искривил свой рот.
Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой также стерт.
Тише вод и ниже трав —
Захудалый черт.
На дурацком колпаке
Бубенец разлук.
За плечами — вдалеке —
Сеть речных излук…
И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.
Зачумленный сон воды,
Ржавчина волны…
Мы — забытые следы
Чьей-то глубины…
А потом сидели вечером выдохшиеся, молчаливые за столом.
— А я в воспоминаниях Армстронга, кажется, читал, — вспорол тишину Витя и опять сделал вертикальным козырек от бейсболки, вперился в темное небо, — у наших космонавтов. Что углем там пахнет, сваркой и железной дорогой.
Тихо, неспешно, вразвалочку шествовали друг за дружкой две медведицы — большая и поменьше. Чибис пролетел. Но ничего у нас так и не спросил.
Очерк Владимир Лепилина опубликован в журнале "Русский пионер" №58. Все точки распространения в разделе "Журнальный киоск".
|